
 |
|||
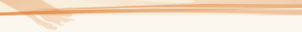 |
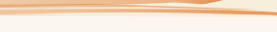 |
 |
|


ВХОД В УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ
| Рассылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страницы |
| наиболее посещаемые |
|
Гипертрофия глоточной (носоглоточной) миндалины — аденоиды Растительные масла, которые используют для приготовления кремов в домашних условиях Эфирные масла — древнейшее лечебное средство Категории эфирных масел и критерии их качества Безопасность эфирных масел Зачем мы рисуем, или как пахнут рисунки Технология науки: качества творческой личности |
| Афиша |
| Мысли |
| на всякий случай ????????? — ??? ??????? ??????, ???????? — ??? ??????? ????, ? ???????? — ??????? ??????. ? ?? ???? ????? ????????? ???? ????????, ???????????? ???????? ???????? — ??????????????????. |
другие полезные ссылки
 |
||||||||||||||||
| 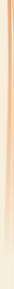 |
|||||||||||||||
 НАША ИСТОРИЯнаше наследие
НАША ИСТОРИЯнаше наследие
СЕВЕРНО-РУССКИЕ ДУМЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ I «Звездочка», пароход для перевоза пассажиров из
Ярославля через Волгу, только что отчалила. Небольшая палуба была полна народа самого
«разношерстного», но с явным преобладанием торгово-промышленного люда. Теснота,
давка, говор, розыски затерявшегося багажа, брань... Большинству некогда бросить и
взгляда на окружающий вид. А полюбоваться было чему! Вечерело; солнце уже скрылось
за темными буграми гористого берега Волги, а небо все еще пылало алыми и золотыми
снопами лучей заката; точно удалым взмахом богатырской руки широко и смело
разметанные облака еще рдели ярким румянцем, любуясь собою в струях могучей
реки, посредине дрожавшей в неуловимо-причудливых переливах света, а к берегам
и в сливающейся с небом дали уже одетой в нежные фиолетовые тоны, так верно
схваченные поэтичною кистью Дубовского. Сзади нас, высоко, на гористом берегу,
окаймленном густыми старыми липами, высились древние храмы Ярославля,
все более погружаясь в легкую дымку теплого летнего вечера.
На реке шло бодрое, веселое движение: маленькие буксирные пароходы, пыхтя и надуваясь изо всех сил, тащили за собою огромные неуклюжие баржи; лодки с деловым и гуляющим людом сновали взад и вперед, иногда под звуки раскатистой русской песни; широкий паром, загроможденный телегами, бранившимися мужиками и бабами в пестрых платках и платьях, готовился к переправе; к «Самолетской» пристани, переполненной иною, более нарядною публикой, «подваливал» большой красивый пароход. Что-то бодрое, и деловое зараз, и праздничное разлито было в эту минуту и над пристанью, и над широкою рекой... А там, на другом берегу, было тихо и скромно. Не то слобода, не то большое село с высокою церковью растянулось над береговым откосом, и тут же, без набережной и мостовой, слегка поднимаясь над желтым песчаным спуском к реке, виднелась и железнодорожная станция Урочь. Свисток, шумная пена из-под винта парохода, крики матросов... Причалили! Бегом, торопясь без надобности и оступаясь под тяжестью мешков и чемоданов, все спешат по песку и по деревянной лестнице к длинной платформе, где, сверкая фонарями, нас уже ждет поезд... Ну, вот мы и за Волгою! И как все сразу переменилось, словно одним махом отрезало! Все стало проще, смиреннее, естественнее: вместо высокого каменного вокзала - маленькое деревянное здание, крытое деревом же; вместо широкой платформы с чугунными столбами и газовыми фонарями - простой дощатый помост с тускло мигающим освещением. Но зато и вместо городской пыли и шума сюда уже доносится душистая свежесть заливных лугов, одетых полумраком надвигающейся ночи. В этом веянии душе слышится что-то совсем особое от оставшейся на том берегу городской торговой и фабричной культуры, что-то сельское, безыскусственное, здоровое, — отголоски деревни, земли, поля и луга, широкого русского простора и старого, родного русского быта... До отхода поезда еще целая бесконечность. «Публика» успела разместиться в вагонах, поворчать друг на друга из-за мест, разобраться и помириться; колкие замечания о соседях сменились благодушным пустословием; постепенно и оно стихло; большинство уже успело заснуть; спит и мой спутник-студент сном праведного; а поезд все ждет чего-то, все не трогается. Стою у открытого окна и после знойного дня жадно ловлю свежий воздух... Сзади, из вагона, до меня долетают обрывки разговора, так называемого делового разговора. Беседующие — дельцы новой, нет! к сожалению, уж и не совсем новой формации. Особенно типичен один: выходец одного из здешних поволженских сел, отчуждившийся от него, разжиревший на строительных подрядах в Питере, здоровый, слегка начинающий стареть, бывший крестьянин, теперь богач, едущий во втором классе «проведать родную деревню и родных повидать». Атлетическое сложение, облик чисто русский, с густой широкой бородой, с умным выражением серьезного, красивого лица; одежа едва начинает сбиваться на городскую; но в душе... в душе, насколько позволительно судить по разговору, уже успело выветриться почти все истинно крестьянское, старинное, русское бытовое, сельское, весь склад понятий и чувств, вырастающих на почве естественного, деревенского, православного, благородного, земляного труда, цель которого — не прихоть и не нажива, а хлеб насущный, более близкий к небу, чем все богатства городские. Бывший крестьянин, подрядчик тоном знатока и преуспевшего повествует о современных «делах», о том, как не по дням, а по часам за три последних года росли при столичной строительной горячке цены на дома и на строительные материалы и сколько тут «дельному» человеку можно было «заработать». Цифры получались лакомые, опьяняющие, разумеется, для «понимающего дело». Собеседник подрядчика был, несомненно, в курсе дела и удивить его было нелегко. Но когда Иван Трофимыч, мудро приберегавший решительный эффект для конца, на расхолаживающее замечание своего собеседника о трудности добыть выгодно кирпич и известку, сообщил ему, почем он, Иван Трофимыч, сумел закупить на два лета и кирпич, и известку, собеседник, пораженный таким «обломным» барышом, слегка даже подпрыгнул в порыве бескорыстного «делового» восторга и мечтательно, нараспев, с глубоким чувством заметил: — Вот это так дела! Посылает же Господь!... — Да! Дела добрые, — скромно подтвердил Иван Трофимыч, также привставая и высовываясь в окно, откуда на его умную голову, жаждавшую отдыха после столичных «добрых» дел, пахнуло влажным простором полузабытого деревенского мира, где он рос когда-то, конечно, и, не мечтая о своей блестящей судьбе, и куда теперь, контраста ради, «вроде как на дачу», по его словам, возвращался теперь «барином», во втором классе, даже покуривая дешевую сигарку. Поезд тронулся. Собеседники смолкли, примащиваясь для сна. Прилег было и я. Рядом, хотя и вполголоса, но ясно долетая до моего слуха, за высокою спинкой сиденья велся другой разговор, как раз противоположного, минорного тона. Говорил старичок лет семидесяти, маленький, худенький, дряблый, сморщенный и выцветший, но добродушный, с кроткими, необыкновенно живыми, пугливо бегавшими карими глазками; говорил на «о», по-северному. Я заприметил его еще на пароходе, где он сидел так же робко, весь обставленный мешочками, ящиками и «фунтиками» с разными покупками. Прилично, но бедно одетый, он, как выяснилось, «ехал во втором через силу», чтобы хоть немного отдохнуть после залпом обрушившихся на него несчастий. О них-то он и повествовал теперь соседу по вагону, повествовал скороговоркою, так наивно и просто, как только можно при глубоко-трагических обстоятельствах. Услыхавши слово из истории этого нового Иова, нельзя уже было оторваться, нельзя было не слушать до конца. Он начал коробейником; на своих узких плечонках он износил «коробу» по всему северу матушки-России. «Не то, что города, кажись, села, деревни там не было ему незнакомых. Давно это было! Дела в ту пору иные были: чудно по-нонешнему и вспоминать-то! Ну, а копеечку и тогда наживали; да и крепко берегли ее, батюшка: не больно легонько она доставалась! Господь благословил: потихоньку да поманенечку дельце пошло, перешли в заправские торговцы; в Москву, в Нижний стали ездить; домок в городе завелся, две лавки, другой домок, приличный; детки были, деловые, родителям почетники; и внучатки были... Все — слава тебе, Господи! Кончаться бы житием надо; ан тут-то вдруг горе и пошло; да как пошло-то! Опомниться не дает! В прошлом году старуха померла: старуха она, старуха, а все жалко, батюшка, как хотите! Полусотку годов вместе скоротали; всего Бог привел видать, и горя, и радости; случалось, когда вместе и корочку глодать... Схоронил, — Божья воля! Глядь, по весне сын меньшой!... Чахотка... Что поделаешь? Божья воля!... А на прошлой неделе опять Бог посетил: и дом, и лавки — все под орех! чисто! как есть все до званья подобрало». — Пожар? — Пожар, батюшка! И всего в полчаса каких-нибудь. Да так-то чисто, батюшка, что и угольков, почитай, не оставило, все ветром поснесено: буря была. А товар-от был под навесом; из Москвы за два дня получили, не разобрамши под навес поставили... Все дочиста, звания не осталось! — Страховано, небось, было? — приподнявшись на локоть, спросил с верхней койки уже было задремавший подрядчик, которого стал пронимать рассказ о таких исключительных бедах. — Нет, батюшка, ни звания не застраховано. В жисть свою не страховали; Господь миловал до времени. Господня воля! — зачастил Иов, крестясь так же проворно, как говорил. — Ну, это не дело, — зевнув, и поворачиваясь на другой бок, заметил Иван Трофимович. А старичок уже продолжал досказывать свою действительно редкую скорбную быль: — Вчера пришлось схоронить и второго сына, старшего, женатого. Этот и здоровый был, и дельный. Надо ж быть беде! Дом строил в Ярославле: оступился, с подмостей упал — и был таков! Ох, Господи! легче бы, кажись, кабы мне грудь придавило, — закончил старик, глотая невидимые, но дрожавшие в голосе слезы. — Вот оттого-то я, батюшка, барином ноне еду с вами; вы уж меня извините, ради Бога; прихотствую!... Не по карману теперь, сам знаю, а мочи нет: авось хоть здесь усну маненько? Котору ночь не могу заснуть: как чуть станешь засыпать, щемит мое сердце. Ох, Господи! — Да, это горе, — сочувственно процедил откуда-то снизу густой голос того, к кому обращался со своей повестью бедняга. — На все воля Божия, батюшка. Истинно, воля Божия... по грехам нашим... Теперь опять на мелочную торговлю переходить будем; эва-на, сколько товара везем, — с добродушною усмешкой над самим собою заметил старик, иронически показывая на свои мешочки и ящички, заполнявшие верхние сетки вагона. — Надо кормиться как-нибудь, батюшка; нам не привыкать: старину вспомним, начнем сызнова; много ли старику нужно? Бог не без милости!... А вот заснуть бы теперь... И стих, съежившись на диванчике, весь такой маленький и жалкий, но со светом истины в изможденной груди и с разумением высшего смысла жизни, куда превосходящим все «добрые» дела уже храпевшего над ним баловня судьбы! Дела, дела!... Да неужели же от них никуда не уйдешь, нигде не скроешься в наши дни, от этих, не знаю, добрых ли, но во всяком случае суетных дел, заслоняющих понимание дела высшего, общего, братского, человеколюбного Христова дела? Я снова высунулся в окно. Мы только что остановились у какого-то мелкого разъезда. Крохотная будочка стояла среди лесной пустыни, пронизанной таинственным прерывистым полусветом негаснущих сумерек, заменяющих на севере летнюю ночь. Зеленый огонек сверкал вдали на диске; другой прыгал в руках шедшего по шпалам кондуктора. Было безлюдно и тихо, и самый поезд казался точно заблудившимся в этой глуши, и словно в смущении озирался, куда это забрел он в такую пору? А кругом необъятная, безучастная к человеческим страстям и страданиям природа жила своею стихийною жизнью: лесная чаща стояла такая спокойная, свежая, кудрявая и развесистая, вся пропитанная влагой ночи; из-под кустов несся запах цветущей травы и кое-где вянущего сена; сизый туман тянул с болота, одевая даль, медленно ползущею задумчивою дымкой; в канавках, вдоль по дороге стихая, вполголоса урчали лягушки; в мокрых лугах перекликались коростели... Тонкий серп месяца запрокидывался за вершину темного леса; а рядом, нервным светом, точно жмурясь и вздрагивая, сверкала яркая звездочка, — одинокая слезинка безучастного неба над забывшимся в скорбях и заботах грешным миром... Когда я проснулся, яркое солнце сияло на ясном, почти безоблачном небе, заливая бодрым светом зеленые холмы, низменные луга, чередовавшиеся с огороженным, по северному обычаю, полями густой ржи, и синеющие лесные дали, из-за которых показывались уже белые храмы Вологды. С вокзала мы отправились прямо на пристань, чтоб обеспечиться каютою для дальнейшего долгого речного путешествия. Проездом ознакомились в общих чертах с городом, который потом и более подробно осмотрели. Для человека, не измеряющего достоинства города количеством фабричных труб, торговых контор, магазинов и вывесок, старушка Вологда может еще показаться привлекательною. Просторные, просто, но хозяйственно построенные деревянные дома, чистенькие снаружи, с широкими усадьбами и садами; деревья на дворах, деревья на улицах, палисадники; зелень всюду; тротуары, по-северному деревянные, отделенные от фасада строений широким пространством, с глубокими канавами посредине для отвода сырости из слишком влажной почвы. И все это заросло даже на главных улицах густою, низовою травой, осокою, лютиками, незабудками. Странно видеть эту болотную флору на улицах хотя и немноголюдного, но все же большого города. Окружность его — целых тринадцать верст — указывает и на привычку к простору, и на прежнее значение, на былые силы. Посредине города извилисто скользит судоходная река Вологда, загроможденная там и сям лесными плотами, высокобокими баржами и сплющенными коломенками. У двух незатейливых пристаней на причале по пароходу: один — «Мурманец», другой — костровский «Петербург», на котором и нам предстоит трехсуточное плавание, если только нам быть живыми в каюте от тучи комаров, распевающих звучным унисоном песни их родного, болотистого севера. Устроились, позавтракали, и пошли бродить по городу. Но что смотреть в этих старых русских городах, как не старинные храмы? Где поучаться как не в них, обнимавших в былое время всю жизнь народную, бытовую, государственную, умственную и художественную? И доселе хранят они память о родном прошлом, несмотря на столько невзгод былых и на современное нерадивое или неумело-усердное отношение к ним. Попробовали мы бросить взгляд и на новую Вологду: посидели под чахлыми деревцами плохенького городского сада, где дети возятся в песке и где скучающий заезжий посетитель цедит сельтерскую воду, вяло беседуя со скучающим же буфетчиком; послушали оркестр местного учащегося юношества, классиков и реалистов, вооруженных скрипками, флейтами, тромбоном и барабаном и лихо, довольно складно отзванивавших какой-то марш в присутствии преподавателей на заросшей травою площади, — развлечение, достойное похвалы не с одной художественной, но и с воспитательной стороны. Прошли мимо главных зданий: губернаторский дом, присутственные места, окружной суд, казначейство, банк, тюрьма - все как следует быть в правильно поставленном губернском городе, все признаки прочно установившегося юридического строя, не обходящегося без денег, без судов и без тюрем. Побродили вокруг магазинов и лавок, не очень многочисленных и прозябающих, как заметно, сонною, вялою жизнью. Осведомились, на всякий случай, и о ресторане: где лучше? «Чего же лучше «Золотого якоря?» — молвили местные жители, указывая не без гордости на огромное, высокое здание гостиницы с этой вывеской, почему-то особенно любимою на севере. Обеспечившись относительно пищи телесной, стали искать чего-либо по части пищи умственной: забрели в библиотеку и книжную лавку, спросили описание Вологды. К удивлению, их оказалось два, и оба недурно составленные. Одно носит оригинальный характер элементарного курса географии, составленного на почве подробного изучения родного города и родной губернии: местами наивно, кое-где многоречиво, но во всяком случае дельно и почтенно по замыслу: отечествоведение, излагаемое в школьном возрасте так, по родным местам, в детальном физическом, историческом и бытовом обзоре, но с необходимым сопутствующим обозрением описываемого, какая плодотворная почва для начального образования, реального, патриотического, богатого и практическими сведениями, и духовным содержанием! Но уже беглый взор в новые книжки приводит к старине, к тому же, на чем сосредоточились уже раньше наши впечатления. Невольно от бледного современного в жизни города, ставшего третьестепенным, внимание обращается к более выразительным чертам его прошлого, когда он был выдающимся в жизни нашего севера; невольно взоры снова сосредотачиваются на храмах. Не ждите же от меня ничего, кроме посильной передачи впечатлений и дум, ими навеянных! Храмы... как много их! один за другим, чуть не рядом, иногда совсем рядом! Пятьдесят пять церквей (с домовыми и кладбищенскими) в городе с 21.000 жителей! И какие храмы! Большею частью огромные и, к чести вологжан, почти все в хорошем порядке, несмотря на нередко малые приходы, доходящие иногда, например при церкви Герасима преподобного, всего до шести домов, да еще на окраине города! Обилие святынь и завещанное прежними поколениями обеспечение их от упадка живо говорят о силах Вологды в прошлом, когда север, впоследствии надолго замерзший, жил бойкою, энергичною жизнью, когда в северных уделах сосредотачивались политические интересы, а по северным рекам направлялась предприимчивость торговая с апостолами веры православной впереди и с военно-государственным строем в запаздывающем ариергарде. Вот и здесь, вдоль по судоходной реке, по обоим берегам — все церкви, древние, разнообразных форм зодчества, смотрятся друг на друга и точно любуются на старинный водный путь из неугомонного Новгорода в дебри дремотного, но богатого полуночного края. Вот Андрей Первозванный, вот Кирилл Белозерский, один — на левом, другой — на правом берегу, один — отклик далекого прадедовского Киева, где впервые на горах, с крестом, водруженным первозванным апостолом, воссиял странам полуночный свет, просвещающий всех; другой — звено, связующее с ближайшим средоточием духовного просвещения северной Руси. А вот над пристанью, на крутом высоком бугре, густо обросшем деревьями, и Феодор Стратилат, создание грозного воителя царя Ивана Васильевича, оставившего глубокие следы в судьбе Вологды: этот храм угодника-воина — внушительное напоминание о связи с суровою в ту пору Москвою. Русская старина любила и умела создавать из такого подбора храмов живую цепь, соединявшую прошлое с настоящим, наглядный памятник дум и упований народных и всей то славной, то многострадальной повести временных лет, возвещавшей в лице этих священных зданий сменившимся поколениям, откуда пошла Русская земля и как обосновалась, как стала, укрепилась она, Богом хранимая, милостью Спаса Всеблагого, заступничеством Пресвятой Богородицы и святых подвижников, радетелей и хранителей родины и веры православной. Среди бедствий, всегда готовых нахлынуть на отчизну извне, от врагов лютых, среди гибельных бурь, усобиц внутренних, этот круговой поход церквей, этот, если позволительно так выразиться, священный хоровод, или, лучше, этот кружный крестный ход храмов Божиих по широкому лону земли Русской создавал в груди народной противовес пагубным дроблениям и раздору, сплочал сердца, разрозненные корыстью и местью, в едином, всем общем, родственном порыве, воплощавшемся здесь в изумительном созвучии чувства религиозного с нравственным и патриотическим. Ибо храмы, поставленные так, в этом смысле, в смысле связующего звена между далекими составными частями огромного отечества, получали двойное учительское значение: вознося помыслы к общему, небесному отечеству, они сплочали и отечество земное, являли в себе неумирающее воплощение связи сынов с отцами, дедами и прадедами, связи не искусственной, а присносущей, созданной самою жизнью, исторической судьбою общей родины. Каждая сторона, каждый исторический период вырабатывал свои типы храмов, в которых сжато, но с могучей полнотой сосредоточивался смысл главных совокупных стремлений, упований, задач и подвигов отечества в известную характерную пору его развития. Здесь навеки незабвенными чертами запечатлевались и пути неисповедимого Промысла Божия, и заслуги предков, и таким образом непрерывным наглядным напоминанием воскрешалось прошлое, увлекаемое временем в волны забвения, и сразу просто и понятно даже для неученого и неграмотного из сумрака далеких веков ясно выступали образы не одного лишь ближайшего племенного родства, но и более далекого по месту и времени, но близкого по общей вере родства духовного, родства с праматерью Византией. Свое миросозерцание, глубокомысленное и широкое, несоответственно широкое своим политическим силам и способностям, бесхарактерная, но вдумчивая Византия воплотила в несравненном художественном творении, в храме св.Софии, ставшем как бы наглядным проектом и художественным подобием всемирной задачи, указанной Восточной империи, второму Риму: братского, соборного объединения мира христианского и умиротворения мира неверных. Исполинское дело разбилось о мелкие побуждения и колоссальные пороки; но бессмертная задача осталась для мыслей, для чувств и для усилий воли грядущих поколений воплощенною в величавом, поруганном исламом, но неистребимом, способном к возрождению храме св.Софии. И вот, в залог понимания и усвоения этой задачи, во свидетельство о преемстве Русью от Цареграда этой славной задачи и долга, с нею неразлучного, русская политическая, религиозная и художественная сила воздвигает и у себя, на лоне земли православной, крестной дщери Византии, храмы Софии: сначала в Киеве, затем немедленно в Новгороде и т.д.1 до отдаленнейших окраин государства Русского, до глубин Азии, до Сибири (тобольская София) и Пекина, где позднейшая из русских Софий возведена была патриотическою мудростью албазинских пленников, как бы пророчески указавших этим, до каких пределов простираются миролюбивые и миротворные обязанности третьего Рима2. Для Киева, крестника Византии, высшим религиозным и художественным символическим воплощением церковной и государственной жизни становится храм Успения Богоматери. Уже св.Владимир построил великолепный Успенский храм, Десятинную церковь, ставшую первою усыпальницею князей русских. Главным святилищем Печерской обители, колыбели русского иночества, воспитательницы христианского духа Древней Руси, стал Успенский же храм, построение которого предшествовалось и сопровождалось столькими изумительными знамениями, предвещавшими его великое значение. Вдохновение и благословение Византии веяли над этою святыней: из Влахерна раздался таинственный приказ греческим зодчим идти в далекий Киев строить храм во славу Царицы Небесной; чудесными указаниями Антонию, воспитаннику Афона, определено было место его, и князь киевский Святослав сам первый начал копать для основания храма. Византия в эту пору торжественную минуту передавала завет Софии, мудрости Божией, и будущую судьбу мира православного в руки своей крестной дщери — России. И вот, куда бы ни направлялся главный поток государственной жизни русской, всюду возникали особо величавые храмы Успенские. Так древнейший Черниговский Елецкий Болдиногорский монастырь поставлен был в честь Успения Пресвятыя Богородицы: здесь уже в 1006 г. черниговский князь Святослав построил каменную церковь Успенскую, сохранившуюся и доныне. Мстиславов храм во Владимире Волынском был также Успенский. По мере того как государственные интересы перемещались на север, и там возникали храмы Успенские. Тот же святитель Нифонт, который обновил и великолепно изукрасил новгородскую Софию, создал и каменный храм Успения (1135—1144 гг.) («Лет. Новгор.» изд. 1888 г., стр.135). В 1153 г. святой игумен Аркадий в трех верстах от Новгорода «срубил церковь Успения» и основал монастырь, ставший «крестьяном прибежище, ангелом радость, и дьяволу пагуба» («Лет. Новг.» 139, 141): В Ростове Великом на месте построенной еще в 991 г. деревянной церкви, сгоревшей в 1160 г. Андрей Боголюбский возводит каменный Успенский храм, обрушившийся в 1213 г., но тотчас же возобновленный Константином Всеволодовичем. Перенесение великокняжеского стола во Владимир ознаменовалось построением собора Успенского, для отделки которого Боголюбский не щадил ни средств, ни трудов: связывая с величием этого храма надежду на упрочение и возвеличение и своего государственного здания. (Заложен Успенский Владимирский собор в 1158 г., освящен в 1160 г. Тем же князем основан и владимирский Успенский девичий монастырь). Столь важный одно время Ярославль получил свой Успенский собор в 1215 г. усердием великого князя Константина Всеволодовича. В Костроме Успенский собор воздвигнут был в 1239 г. на месте бывшего кремля. Весьма древний Успенский храм был и в Великом Устюге. Наконец Москва, принимая от Киева, Ростова и Владимира преемство политического могущества, получает вместе с ним и завет символически воплотить его в храме Успения. Переселившийся из Киева в Москву, митрополит Петр был изначала нарочитым чтителем праздника Успения: собственноручно написал он икону Успения Пресвятыя Богородицы, перед которою уже митрополит Максим вдохновлялся «денной и нощной молитвой о спасении земли Русской». В наставлении святителя Петра Иоанну Калите «завет Успенский» преподан вполне определенно как религиозное условие, неразрывно связанное с предстоящею Москве славною судьбою. Москва исполнила завет святителя, и воистину сбылось предреченное им... И вот, вослед за проникающим в разные стороны влиянием московским, возникают повсюду храмы Успенские, стражи-хранители власти московской. В решительную минуту борьбы за жизнь Москвы и России, перед походом на Мамая, Донской обещал преподобному Сергию поставить монастырь в честь Успения Пречистой Богородицы и исполнил обещание созданием обители преподобного Саввы Звенигородского. В 1397 г. Кирилл Белозерский москвич, воздвигнул Успенский же храм на месте, ставшем одним из главных источников духовного просвещения для всего северного края. В Твери, так упорно соперничавшей с Москвою, Арсений, в день Успения посвященный во епископа, освятил храм Успенский в 1404 г. За центром, по мере слияния с Москвою, следовали окраины: преподобный Иона, выходец, «шестник» московский, строит в 1477 г. пещерный храм Успения на рубеже Лифляндии («Жит. свят.», преосвященного Филарета, март, 227-8); Зосима Соловецкий ставит храм Успенский на острове Соловецком; Трифон Печенгский - Успенскую пустыньку у студеных волн самого океана; Герман епископ воздвигает Успенский храм во вновь покоренной Казани («Жит. свят.» ноябрь, 56), а Трифон Вятский — в стране остяков. Когда великий собиратель земли Русской Грозный задумал было перенести престол свой в Вологду, как более безопасную от набегов вражеских и лежащую на широком водном пути, над торговым и просветительным значением которого уже задумывался этот предшественник Петра, он соорудил и здесь Софийско-Успенский собор, долженствовавший разом свидетельствовать о связи далекого севера с Киевом и с Москвою. Этот замысел отметило и народное понимание в старинной песне, относящейся к этому событию: Что на славной реке Вологде, Во Насоне было городе, Где доселе было Грозный царь Основать хотел престольный град... Посреди он града церковь склал, Церковь лепную, соборную, Что во имя Божьей Матери, Ея честнаго Успения. Образей он взял с московского Со собора со Успенского. Таким образом храмовой тип Успенский неотступно сопутствовал объединительному движению московского государственного строя. Но всюду этот тип представлялся и выдавался не за самостоятельное создание Москвы, а за священный завет первопрестольного княжьего града Киева, и именно в этом смысле являлся он оправданием, освящением и узаконением верховных прав Москвы. Но и самый храм Успенский есть только вариант понимания смысла храма Софийского, русское истолкование этого смысла и его церковного, богослужебного и художественного воплощения. В «Успенском, киевском завете», следовательно, содержится предшествующий завет софийский, полномочия и обязанности византийские, перешедшие через Киев и уделы к Москве. И вот в высоко-поучительном, хотя и малоизвестном «завещании» преподобного Лазаря Мурманского мы встречаем отражение сознания самою одряхлевшею Византией необходимости и своевременности передачи своих верховных просветительных прав и повинностей русскому северу. Греческий праведный епископ Василий и инок Лазарь, рожденный и воспитанный в Царьграде, чувствуют непреодолимую потребность идти на север, в Новгород, с нарочитою целью увидеть северную Софию и святыни ее окружающие; по повелению епископа преподобный Лазарь исполняет это желание, описывает северную Софию, списывает и копию с образа ее; но когда, затем, намеревается вернуться на родину, в град первоначальной Софии, ряд чудесных видений и знамений возбраняет ему это и, вместо ветшающего Царьграда, повелевает ему направиться, наоборот, на север, к студеному морю, нести туда свет Софии, мудрости Божией, и там, в дебрях полуночной поморской страны, поставить первый христианский храм, но уже не Софийский, а Успенский, что святой и выполняет в стране лопи и чуди, на острове Мучи, на берегу озера Мурма (Онежского). Это удивительное сказание за целое столетие до падения Царьграда3 является как бы предзнаменованием приближающейся передачи духовной просветительной миссии Византии северу («Жит.Свят.», 8 марта). Когда же второй Рим пал и эта передача действительно состоялась в смысле политическом, мы снова встречаемся с одним многозначительным совпадением в том же духе. Вместе с Софиею, невестою великого князя Иоанна, прибыл в Москву знатный грек княжеского рода, Константин (впоследствии преподобный Кассиан Угличский); и вот спутник царственной дочери умирающей Византии, передав Москве этот живой залог прав второго Рима, удаляется в уединение русского севера и там, на месте своих иноческих подвигов, ставит также храм Успенский, словно желая запечатлеть этим убеждение, что бывшая владычица земная отныне почила для мира, но вместе с тем во успении дела всемирного мира не оставила, а под охраною неусыпающей Царицы Небесной передала задачу братского и соборного объединения Риму третьему, призванному возжечь «свет вечерний» в необъятных странах полуночных. Но если храмы Софийские предназначались для поддержки связи и родства с духовным и государственным заветом Византии о всемирном братском и соборном объединении единоверных, а храмы Успенские напоминали о киевско-московском завете ближайшего, теснейшего, родственного государственного объединения единоплеменных в пределах общего отечества, о завете, исполнение которого, за неуспешностью главы удельной Руси — Киева, взяла в свои руки создательница самодержавия — Москва, — то храмы в честь Пресв.Троицы представляют собою в истории России воплощение третьего завета: необходимости высшего изо всех видов единения — единения внутреннего, всечеловеческого, в общем братском чувстве, в общей всем сынам человеческим цели и в ее осуществлении, в общечеловеческом деле. Чествование Пресв.Троицы, неслиянной и нераздельной, как высшего и совершеннейшего образца единодушия, мира и любви, являлось непременным условием и согласия внутреннего, порождающего силу, способную осуществить и объединение внешнее, то есть, государственную задачу, завещанную Византией Москве и символически воплощенную в типах Софийских и Успенских храмов. Храмы Софии Премудрости Божией воплощали собою чествование высшей мысли, высшей мудрости в смысле христианском: они вещали, что высшая мудрость состоит в спасении всего мира, в установлении мира всего мира. Храмы Успенские воплощали собою другую существенную сторону религиозного бытия — благоговейное чествование высшего чувства в смысле христианском, то есть, любви отеческой и материнской и соответствующей ей любви сыновней: они вещали, что высшее проявление этих святых чувств есть печалование о кончине отцов и матерей и братий, благоговейное хранение памяти о них и вместе с тем желание и надежда на высшую радость — на воскресение усопших, надежда, переходящая уже в удостоверение в преставлении святых, память о которых, конечно, не в смысле смерти, а в смысле начала жизни вечной, церковь и приурочивает ко дням успения их, вследствие чего все храмы, святым посвященные, в этом смысле могут считаться Успенскими, тогда как праздник Успения по преимуществу является день Успения Богоматери, как «Спасителя жизни нашей Рождшей и смерти Победителя». Вместе с тем храмы печалования и упования, храмы Успенские (рядом с храмами научения и мудрости, храмами Софийскими) внушают завет теснейшего родственного сближения верующих для успешной охраны родины, и прежде всего — для охраны мест успокоения (успения), во-первых, святых, а во-вторых — святителей и правителей, вершителей и стражей духовного и светского единства, и вообще всех защитников родины. Вот почему преимущественным местом для воздвижения храмов Успенских и являлись в старину священные средоточия поселений: погосты, детинцы, кремли, то есть, хранилища мощей святых и священного для потомков праха предков, кремли, на защиту которых упование народное тут же, в особенности на севере, воздвигало храмы Всемилостивого Спаса и храмы охраны, сторожевые и воинские — Архангельские (в особенности в местностях окраинных, порубежных, так же как Никольские — в приречных и поморских). Наконец, храмы Троицкие долженствовали воплощать собою высшую силу, или вернее, объединение всех сил в единодушии, согласии и любви: они вещали, что задачи мудрости (воплощавшиеся в храмах Софии-премудрости) выполнимы, осуществимы лишь совокупными силами, объединенными согласием и любовью, высшим образцом которых является Пресвятая Троица. Этот последний в историческом порядке, — первый — по важности и глубине нравственного содержания, завет преподан был древней Руси святым печальником о раздорах родины, неустанным радетелем о единении ее под охраною Москвы, наставником на дружную борьбу со врагом мира и Св.Троицы исламом — великим чтителем Пресвятой троицы преподобным Сергием, имя, подвиги и место подвигов которого настолько тесно слились воедино, что чуткое к духовной мудрости народное понимание даже и не отличает их одно от другого, говоря: «Троица-Сергий, Сергие-Троица». Чествование Пресвятой Троицы, не имевшее по разным причинам достаточно широкого распространения на востоке и в Византии (см. Георгиевский: «Завет преп. Сергия», Москва, 1893, стр.1 и сл.), было до ХIV века сравнительно слабо распространено и в России)4. Оттого и храмы Троичные были довольно редки5. Призыв к усиленному почитанию Пресв. Троицы и деятельный, плодотворный пример к тому преподал преподобный Сергий Радонежский, которому еще в отроческие годы предречено было соделаться обителью Св. Троицы и привести многих к разумению Ее воли («Собр. лет». VI, 120, «Рус. врем.» I, 268-270). Призыв этот осязательно выразился в собственноручном построении храма Пресв. Троицы в 1340 г. великим подвижником, вся жизнь которого и в пределах основавшейся таким образом Троице-Сергиевой Лавры, и за пределами ее стала непрерывным примером деятельного служения миру и согласию, и притом в пору наиболее в этом нуждавшуюся, в пору начинавшегося объединения России под главенством Москвы для решительной борьбы со враждебным Троичному Богу и миру магометанством. Преподобный, лично так много потрудившийся для прекращения княжеских усобиц, для утверждения самодержавия и для освобождения родины от ига неверных, указал в Пресв. Троице образец не только высшего нравственного, но и государственного совершенства, совершенства всякого общежития, образец мира всего мира, объединенного любовью, одинаково чуждого и разлада и угнетения, искажений свободы и злоупотреблений власти, ибо «в Троице нераздельной осуждаются усобицы и требуются собирание, а в Троице неслиянной осуждается иго и требуется освобождение» (Георгиевский, «Завет преп. Сергия», 14). И вот немедленно вслед за созданием Троицкого храма преподобным Сергием, по лицу всей земли Русской одновременно с распространением объединяющего влияния московского, с победами над исламом и со внесением учения о Троичном Боге в края языческие, начинают всюду возникать Троицкие храмы в таком количестве, что уже в течение одного столетия число их становится громадным (там же, стр.16)6. И совершается это не только по совету преподобного Сергия, но и благословения принявшей его завет высшей святительской власти: митрополит Алексий, великий радетель объединения России, очевидно, понимал значение почитания Пресв. Троицы в том же глубоком смысле, как и подвижник Радонежский. По крайней мере в своей грамоте, посланной на Дон, он внушает: «Веруйте в святую единосущную Троицу, в которую крестились; храните любовь и мир между собой» («Ист. акты», 1, N3). Призыв к миру и согласию, как видим, сближен, сопоставлен здесь с верою во Св.Троицу, в образец мира и согласия! Тот же святитель «с любовью благословлял преподобного Пахомия Нерехтского строить храм и обитель Св.Троицы в глухом краю» («Жит. Свят.», март, 192. Бл. Пахомий написал сам икону Св. Троицы, 191). Таким образом начинается третий храмовой крестный ход по земле Русской, в честь воплощения высшей воли и высшей силы, объединенных согласием и любовью, и непрерывно продолжается он в ХIV, ХV и ХVI столетиях, всюду принося многообразные добрые плоды. Заходит ли одинокий инок — подвижник в лесную глушь, он ставит в безлюдных, непроходимых дебрях храм во имя Живоначальной Троицы и жизнь зачинается в пустыне: Павлом Обнорским — в лесах Комельских, пр. Макарием - на Унже (1457, «Жит.Св.», июль, 235), Варнавий - на Ветлуге (Троицкий храм. Ок.1445 г., Id, июнь, 107), Александром Свирским — в такой глуши, где подвижник «7 лет не видал людей и ни разу не вкушал хлеба, довольствуясь одною травой» (храм Св.Троицы освящен им в 1508 г. Id., август, 296-7; другой, обширный, каменный, освящен был в 1526 г., 298), Герасимом Болдинским (прожившим 26 лет в Троицкой обители) — в лесах Дорогобужских, «где кроме змей и диких зверей никого не было» (храм Св.Троицы освящен в 1530 г. «Жит.Свят.», май, 33-35), Антонием Сийским - на далеком севере, где не обитал еще оседло человек и где (вскоре после 1520 г.) с дозволения московского великого князя Василия был построен обширный деревянный храм Св.Троицы, а потом и целая славная обитель, препорученная ее основателем особым молитвам преп. Сергия («Жит.Свят.», декабрь, 145-8. Устав Сийского монастыря составлен по обиходу Сергиевой Лавры. Антоний Сийский написал икону Троицы, прославившуюся чудесами). Просвещается ли дикий языческий край светом евангельским, и вот на месте страдальческой кончины мучеников литовских (.+.1347 г.) в Вильне при второй супруге Ольгердовой воздвигаются храм и монастырь во имя Пресв.Троицы («Жит.Свят.», апрель, 136). Апостол Перми св. Стефан водружает образ Св. Троицы в Воже, близь Яренска, а потом В Цилибе («Жит.Свят.», апрель, 255); позднее на берегах Печоры возникает обитель Троицкая (при преп. Ионе Пермском, «Жит.Свят.», январь, 302). Или Грозный покоряет Казань, и вот в краю татарском основывается Свияжск и в нем монастырь Св.Троицы (Id., сентябрь, 322). Нет такой дали, нет такой пустыни, куда бы не достигал благотворный поток этого возожженного преп. Сергием усердия к Пресв. Троице! Когда просветитель лопарей преп. Трифон, проведший уже пять лет «в прегорчайшей пустыне» крайнего севера, встретился с желанным сотрудником, иеродиаконом Феодоритом, прожившим 4 года у Порфирия, бывшего игуменом Троице-Сергиевой Лавры, он основал на устье реки Печенги, в предельной точке московского государственного влияния, обитель Св.Троицы, у берега студеного океана; и вот, по словам Максима Грека, «жившие дотоле как звери в пустынях непроходимых, в пещерах и расселинах, обратились в православную и благочестивую веру христианскую, и распространилось православие до варяжского города Варгава», и, как сказано в грамоте царской, «новокрещенная Лопь дала земли, воды, угодья и промыслы в дом Живоначальной Троицы» («Жит.Свят.», декабрь, 188-190 и 385). Но не одним внешним объединением ознаменовывается крестный ход Троицких храмов по Древней Руси: внешнее объединение — только следствие внутреннего возрастания, внутреннего мира, согласия и любви. К этому-то внутреннему умиротворению во имя Пресв. Троицы направлялись главные усилия ее праведных почитателей, исполнителей завета преп. Сергия. Раскаивается ли корыстолюбивый боярин (Иван Коляга) в преступном умысле убить святого подвижника Макария Калязинского из опасения, как бы боярская пустошь не была отдана возникающему монастырю, и вот на земле этой возносится храм Св.Троицы («Жит.Свят.», март, 154). Клевета ли обвиняет трех боярынь в волшебстве, и вот игумен Сергиевой Лавры Серапион «после усердной молитвы к Св.Троице» является к великому князю Иоанну и спасает невинных от сожжения ( в 1493 г. или следующих. «Жит.Свят.», март, 146). Татары ли в отсутствии князя Димитрия Васильевича нападают на Заозерский край, преп. Александр Куштский осеняет крестом врагов креста Христова, они падают ниц, и лишь через несколько часов угодник Божий пробуждает их от омертвения «именем Живоначальной Троицы» («Жит.Свят.», июнь, 91. Факт относится, вероятно, к 1429 г.). Неправда ли берет верх над правом, и вот князю Константину Дмитриевичу, обиженному, лишенному отцовского наследия, блаженный Михаил Клопский говорит: «не скорби, князь; верь Святой Троице, построй каменный храм в Ее славу и получишь не только вотчину твою, но и небесные кровы; братья примут тебя с честью». И князь зовет строителей и трудников, спешит работою; в два месяца оканчивает храм, и в самый день освящения его в радости возвещает «блаженному» и игумену Клопскому: «Молитвами вашими братья мои зовут меня в мою отчину» (1419 г., «Жит.Свят.», январь, 128). Усобицы князей, столь долгие, столь закоснелые, смягчались или прекращались во имя образца согласия — Пресв. Троицы. Сам преп. Сергий ходил к князьям Нижнего, Рязани, Твери и Ростова и склонил их к миру с Москвою. Им же внушена и духовная грамота Димитрия Иоанновича, положившая начало власти самодержавной. Другим поборником примерения князей был Арсений, епископ Тверской. В 1403 г. он примирил кашинского князя Василия с тверским Иваном Михайловичем и обвенчал сына князя Ивана с дочерью князя Василия; когда распря вспыхнула было снова, он в 1406 г., в самый день Св.Троицы, окончательно примирил враждовавших («Жит.Свят.», март, 21). Уклоняется ли, наконец, сама верховная власть на путь неправды, и вот игумен троицкий Мартиниан смело идет к великому князю, «снимает с него и с его княжения Божие благословение» и бесстрашно удаляется снова в обитель Сергия. Задумывается Темный, зовет бояр своих: «Судите, бояре, что сделал со мною болотный чернец... Но виноват я, други, пред Богом! Забыл слово свое и поступил неправедно. Идем к Св.Троице, к преподобному Сергию и блаженному Мартиниану молить прощения». И исправивши наперед грех свой, идет носитель высшей власти смиренно с повинною к обители Сергия, где преемник Сергиевого завета радостно встречает кающегося со всею братией... («Жит.Свят.», январь, 135). Это ли не осязательные плоды истинно Троицкой, Святым Духом внушенной проповеди мира, любви, правды и согласия и непобедимой силы на них основанной? Это ли не исполнение «заповеди, слышанной исперва: да любим друг друга; не любим словом, ниже языком, но делом и истиною!» ————— 1
Посредствующим звеном между цареградскою Софией и русскими можно считать Солуньскую
и Болгарскую Софии. Ярослав Мудрый воздвигает киевский собор Премудрости Божией
Софии в 1037 г. Почти одновременно (от 1035 до 1049 гг.) создается новгородская
София сыном строителя киевской Софии (деревянный храм существовал уже раньше);
затем псковская, полоцкая София и т.д.
2 Братско-сыновнее дело установления мира всего мира должно было бы, по смыслу своему, иметь естественным своим сотрудником Китай, страну сыновней любви по преимуществу. И был исторический момент, когда по приказу русской церковной власти имя богдыхана поминалось в пределах Китая на молитвословиях рядом с именем государя российского. 3 Пр. Лазарь Мурманский преставился 8 марта 1391 г., но основание им храма Успенского относится ко времени близко следовавшему за вторым походом новгородцев на Мурман, бывшим в 1349 г. 4 До Сергия Радонежского выдающимся ревнителем учения о Пресв. Троице был Иларион, митрополит Киевский, пространнее других изложившей этот догмат в своем исповедании веры и закончивший это изложение словами: «Так верую и не пристыжусь, исповедую перед народами и за исповедание готов положить и душу». Из мирских ранних выдающихся чтителей Пресв.Троицы засмечателен князь Довмонт Псковский. Битвы свои он начинал воззванием: «Постоим за Св. Троицу! Святая Троица, помоги нам!». На борьбу с ливонцами он готовился молитвенно в Троицком соборе, где и препоясывался мечом. Там же почивает и тело его. Летопись упоминает о чуде при гробе его именно в Троицын день. 5 В Киеве Троицкий храм построен был над Святыми Вратами усердием Николы Святоши. Древнейший храм Св. Троицы встречаем во Пскове (1-й половины ХII века; предшествовавший ему деревянный построен был еще при Ольге. Толстой, «Святыни и древности Пскова», 15); два в Новгороде (первый в 1165 г.). Преподобным Герасимом в 1147 г. воздвигнут был храм Пресв. Троице в Вологде за Кайсаровым ручьем и первый в северной Руси монастырь Троицко-Кайсаровский (Пахолков, «Вологда и окрестности». Вологда, 1896, 4-5, и Филарет, «Жит. Св.», март,45). &aquo;Великоустюжская летопись» (изд. Трапезникова под редакцией Титова, Москва, 1889, 3-4) повествует без обозначения лет о построении обители Живоначальной Троицы при слиянии Юга и Сухоны, близ начального града Гледена, «рекомаго последи Устюга». Судя по месту, эта обитель не может быть тождественна с Герасимовскую, так как эта была «за Кайсаровым ручьем», близ Вологды. Преп. Ксенофонт Робейский, ученик Варлаама Хутынского, в начале XIII века основал в 25-ти верстах от Новгорода на речке Робейке пустынь с храмом Пресв. Троицы («Жит.Св.», июнь, 269), этим третьим для Новгорода храмом Высшего Согласия как бы напоминая в третий раз о необходимости согласия и единства буйным новгородцам, наиболее нуждавшимся в таком совете. Придел в честь Пресв. Троицы построен был при Георгиевском соборе в Юрьеве-Польском Святославом III в 1234 г. В правление св. Игнатия Ростовского в 1269 г. на устье Шексны, на берегу Белоозера, поставлена первая в этом краю обитель Св. Троицы («Жит.Св.», май 379). 6 Из многих сюда относящихся фактов напомним один, особенно знаменательный: родившийся и воспитавшийся в Киеве блаженный Стефан, инок Печерский, перешедший в Москву от притеснений папистов, в 1358 г. построил храм Пресв.Троицы в 35-ти верстах от Сергиевой пустыни, на Махрище, а затем в вологодских лесах, на реке Авнеже, основал с учеником своим Григорием пустынную обитель Св.Троицы. Переход от завета киевского к завету преподобного Сергия выступает здесь в высшей степени ясно. |


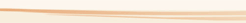 |
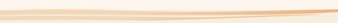 |
 |

:новости сайта: ;:арома-школа: :обратна¤ св¤зь: :друзь¤: :полезные ссылки: :наша истори¤: :технологи¤ науки: :весна и осень в жизни растений: :книжна¤ полка: :фотогалере¤: |
 ®, 2006 ®, 2006
|
|
|
|
|
|||||







