В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у врача,
которого мы все любили, как лучшего друга. Мы питали к нему
безграничное доверие, и все-таки, как я вижу теперь, мы недостаточно его
ценили... В дальнейшем тяжкая судьба, растерзавшая Россию, разлучила и нас с ним;
и жизнь дала мне новый опыт в других странах. И вот, чем дальше уходило
прошлое и чем богаче и разнообразнее становился мой жизненный опыт пациента,
тем более я научался ценить нашего старого друга, тем более он вырастал
в моих глазах. Он лечил своих пациентов иначе, чем иностранные доктора,
лучше, зорче, глубже, ласковее... и всегда с большим успехом. И однажды,
когда меня посетила болезнь, особенно длительная и с виду
«безнадежная», я написал ему и высказал ему то, что лежало на сердце.
Я не только «жаловался» и не только «вспоминал» его с чувством
благодарности и преклонения, но я ставил ему также вопросы. Я спрашивал
его, в чем состоит тот способ диагноза и лечения, который он применяет?
И что этот способ присущ ему, как личная особенность (талант, умение, опыт?),
или же это есть зрелый терапевтический метод? И если это есть метод,
то в чем именно он состоит? Можно ли его закрепить, формулировать
и сохранить для будущих поколений? Потому что «метод» означает
«верный путь», а кто раз открыл верный путь, тот должен указать
его другим.
Только через несколько месяцев получил я от него ответ: но этот ответ
был драгоценным документом, который надо было непременно сохранить.
Это было своего рода человеческое и врачебное «credo», исповедание веры,
начертанное благородным и замечательным человеком. При этом он просил меня,
— в случае, если я его переживу, — опубликовать это письмо,
не упоминая его имени. И вот я исполняю ныне его просьбу, как желание
покойного друга, и предаю его письмо гласности. Он писал мне.
«Милый друг! Ваше вопрошающее письмо было для меня сущею радостью.
И я считаю своим долгом ответить на него. Но скажу откровенно: это было нелегко.
Я уже стар и времени у меня, как всегда, немного. Отсюда эта задержка;
но я надеюсь, что вы простите мне ее. У меня иногда бывает чувство,
что я действительно мог бы сказать кое-что о сущности врачебной практики.
Но нет спасения во многоглаголании... А отец мой всегда говаривал мне:
«уловил, понял — так скажи кратко: а не можешь кратко, так помолчи еще
немножко!»...
Однако обратимся к делу.
То, что Вы так любезно обозначили, как мою «личную врачебную
особенность», по моему мнению, входит в самую сущность практической медицины.
Во всяком случае, этот способ лечения соответствует
прочной и сознательной
русской медицинской традиции.
Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело
служения,
а не дело дохода; а в обхождении с больными — это есть
необобщающее,
а индивидуализирующее рассмотрение, и в диагнозе мы призваны не к
отвлеченной «конструкции» болезни, а к
созерцанию ее своеобразия.
Врачебная присяга,
которую приносили все русские врачи и которою мы все
обязаны русскому Православию, произносилась у нас с полною и благоговейною
серьезностью (даже и неверующими людьми): врач обязывался к самоотверженному
служению, он обещал быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи
всякого звания людям, болезнями одержимым; он обязывался безотказно
являться на зов, по совести помогать каждому страдающему; а XIII том
Свода Законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную
меру и ставил его под контроль.
Но этим еще не сказано самое важное, главное — то, что молчаливо
предполагалось, как несомненное. Именно —
любовь. Служение врача
есть служение
любви и со-страдания: он призван любовно обходиться
с больным. Если этого нет, то нет главного двигателя, нет
«души»
и
«сердца». Тогда все вырождается и врачебная практика становится
отвлеченным «подведением» больного под абстрактные понятия
болезни (morbus) и
лекарства (medicamentum). Но на самом
деле пациент совсем не есть отвлеченное понятие, состоящее из
абстрактных симптомов: он есть
живое существо, душевно-духовное и
страдающее; он совсем
индивидуален по своему телесно-душевному
составу и совсем
своеобразен по своей болезни. Именно таким
должен врач
увидеть его, постигнуть и лечить. Именно к этому
зовет нас наша врачебная совесть. Именно таким мы должны полюбить его,
как
страдающего и зовущего брата.
Милый друг, это не преувеличение и не парадокс, когда я утверждаю,
что мы должны любить наших пациентов. Я всегда чувствую, что если пациент
мне противен и вызывает во мне не сострадание, а отвращение, то
мне не удается
вчувствоваться в его личность и я не могу лечить
его как следует. Это отвращение я непременно должен преодолеть. Я должен
почувствовать моего пациента, мне надо добраться до него и
принять
его в себя. Мне надо, так сказать, взять его за руку, войти с ним
вместе в его «жизненный дом» и вызвать в нем
творческий, целительный
подъем сил. Но если мне это удалось, то вот — я уже полюбил его.
А там, где мне это не удавалось, там все лечение шло неверно и криво.
Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента.
В каждом индивидуальном случае должно быть создано некое врачебно-целебное
«мы»: он и я, я и он, мы вместе и сообща должны вести его лечение.
А создать это возможно
только при взаимной симпатии. Психиатры и
невропатологи наших дней признали это теперь, как несомненное. При этом пациент,
страдающий, теряющий силы, не понимающий своей болезни, зовет меня на помощь;
первое, что ему от меня нужно, это сочувствие, симпатия, вчувствование —
а это и есть живая любовь. А мне необходим с его стороны откровенный рассказ
и в описании болезни, и в анамнезе, мне нужна его откровенность; я ищу
его доверия — и не только в том, что я «знаю», «понимаю»,
«помогу», но особенно в том, что я
чую его болезнь и его душу.
А это и есть его любовь ко мне, которую я должен заслужить и приобрести.
Он будет мне тем легче и тем больше доверять, чем живее в нем будет ощущение,
что я действительно принимаю бремя его болезни, разделяю его опасения
и его надежды и решил сделать
все, чтобы выручить его. Врач,
не любящий своих пациентов... что он такое? Холодный доктринер,
любопытный расспрашиватель, шпион симптомов, рецептурный автомат...
А врач, которого пациенты не любят, к которому они не питают доверия,
он похож на «паломника», которого не пускают в святилище, или на полководца,
которому надо штурмовать совершенно неприступную крепость...
Это первое. А затем мне нужно прежде всего установить, что
пациент
действительно болен и действительно
желает выздороветь:
ибо бывают кажущиеся пациенты, мнимые больные, наслаждающиеся своею
«болезнью», которых надо лечить совсем по-иному. Надо установить
как бесспорное, что он
страдает и хочет освободиться от своего страдания.
Он должен быть готов и способен к
самоисцелению. Мне придется, значит,
обратиться к его внутреннему, сокровенному «самоврачу», разбудить его,
войти с ним в творческий контакт, закрепить эту связь и помочь ему
стать активным. Потому что в конечном счете всякое лечение есть
самолечение
человека и всякое здоровье есть самостоятельное равновесие, поддерживаемое
инстинктом и всем организмом в его совокупности...
Да, каждый из нас имеет своего личного «самоврача», который чует
свои опасности и недуги, и молча, ни слова не говоря, втайне принимает
необходимые меры: то гонит на прогулку, то закупоривает кровоточащую рану,
то гасит аппетит (когда нужна диета), то посылает неожиданный сон, то
прекращает перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у которых этот
таинственный «самоврач» находится в загоне и пренебрежении: они живут
не инстинктом, а рассудком, произволом или же дурными страстями — и
не слушают его, и перестают воспринимать его тихие, мудрые указания; а
он в них прозябает в каком-то странном биологическом бессилии, исключенный,
загнанный, пренебреженный...
Без творческого контакта с этой самоцелительной силой организма
можно только прописывать человеку полезные яды и устранять кое-какие легкие
симптомы; но пути к истинному выздоровлению — не найти. Настоящее
здоровье есть
творческая функция инстинкта самосохранения; в нем
сразу проявляется — и воля, и искусство, и непрерывное действие
индивидуального «самоврача». А контакт с этим врачом добывается именно
через вчувствование, через верные советы, через оптимистическое ободрение
больного и ласковую суггестию (своего рода «наводящее внушение»).
Отсюда уже ясно, что каждое лечение есть
совершенно индивидуальный
процесс. На свете нет одинаковых людей; идеи равенства есть пустая и
вредная выдумка. Ни один врач никогда не имел дела с двумя одинаковыми
пациентами или тем более с двумя одинаковыми болезнями. Каждый пациент
единственен в своем роде и неповторим. Мало того: на самом деле нет
таких «болезней», о которых говорят учебники и обыватели: есть только
больные люди и каждый из них болеет по-своему. Все нефритики — различны;
все ревматики — своеобразны; ни один неврастеник не подобен другому.
Это только в учебниках говорится о «болезнях» вообще и «симптомах»
вообще; в действительной жизни есть только «больные в частности», т.е.
индивидуальные организмы (утратившие свое равновесие) и страдающие люди.
Поэтому мы, врачи, призваны увидеть каждого пациента в его индивидуальности
и во всем его своеобразии и постоянно созерцать его, как некий «уникум».
Это значит, что я должен создать в себе — наблюдением и мыслящим
воображением —
для каждого пациента как бы особый «препарат»,
особый своеобразный «облик» его организма, верную
«имаго»
1 страдающего брата. Я должен
созерцать и объяснять его состояния, страдания и симптомы через этот
«облик», я должен исходить из него в моих суждениях и всегда быть готовым
внести в него необходимые поправки, дополнения и уточнения. Мне кажется,
что этот процесс имеет в себе нечто
художественное, что в нем
есть эстетическое творчество; мне кажется, что хороший врач должен стать
до известной степени
«художником» своих пациентов, что мы, врачи,
должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие пациентов
было достаточно тонко и точно. Нам задано «вчувствование», созерцающее
«отождествление» с нашими пациентами: и это дело не может быть
заменено ни отвлеченным мышлением, ни конструктивным фантазированием.
Каждый больной подобен некоему «живому острову». Этот остров имеет
свою историю и свою «предысторию». Эта история не совпадает с анамнезом
пациента, т.е. с тем, что ему удается вспомнить о себе и рассказать
из своего прошлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он
обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, когда пациент
вполне
откровенен (что бывает редко) и когда он обладает хорошей памятью.
Поэтому материал, доставленный анамнезом, должен быть подтвержден и пополнен
из сведений, познаний, наблюдений и созерцания самого врача. Он должен
совершить это посредством осторожного предположительного выспрашивания
и внутреннего созерцания, но непременно в глубоком и осторожном молчании
(«про себя»). Так называемая «история болезни» (historia morbi) есть
на самом деле не что иное, как вся жизненная история самого пациента.
Я должен увидеть больного
из его прошлого; если это мне удастся,
то я имею шанс найти ключ к его
настоящей болезни и отыскать дверь
к его
будущему здоровью. Тогда его наличная болезнь предстанет
предо мною, как низшая точка его жизни, от которой может начаться
подъем к выздоровлению.
Человеческий организм, как живая индивидуальность, есть
таинственная система
самоподдержания, самопитания, самообновления —
некая целокупность, в которой все сопринадлежит и друг друга поддерживает. Поэтому
мы не должны ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по ним. Симптомы,
с виду одинаковые, могут иметь различное происхождение и совершенно различное
значение в целостной жизни организма. Симптом является лишь поверхностным
исходным пунктом; он дает исследователю лишь дверь, как бы вход в шахту. Он
должен быть поставлен в контекст индивидуального организма, чтобы осветить
его и чтобы быть освещенным из него.
Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассматривающие слово в
отвлечении, в его абстрактной форме, в отрыве от его смысла, как пустой звук, —
убивают и теряют свой предмет. И подобно этому обстоит у нас, у врачей.
Все живет в контексте этого индивидуального, Богом созданного,
органически-художественного сцепления, в живом контексте
этой человеческой
личности, с ее индивидуальным наследственным бременем, с ее субъективным прошлым,
настоящим и органическим окружением. Сравнительная анатомия учит
нас построять в синтетическом созерцании — по
одной кости весь
организм. Врачебный диагноз требует от нас, чтобы мы по одному верно
наблюденному симптому — ощупью и чутьем, исследуя и созерцая,
постепенно — построяли всю индивидуальную систему дыхания, питания,
кровообращения, рефлексов, внутренней секреции, нервного тонуса и
повседневной жизни нашего пациента. Это органическое созерцание мы должны
все время достраивать и исправлять на ходу всевозможными приемами:
испытующими вопросами, которые ставятся мимоходом, без особого
подчеркивания и отнюдь не пугают больного молчаливыми наблюдениями
за его с виду незначительными проявлениями, движениями и высказываниями,
молчаливыми прогнозами, о которых больной не должен подозревать, осмыслением
его походки, анализом его крови и других выделений и т. д. Все это
невозможно без вчувствования, и вчувствование невозможно без любви. Все
это доступно только художественному созерцанию. И практикующий врач
поистине может быть сопоставлен с «идиографическим» историком,
исследующим одно, единственное в своем роде и его особенно
заинтересовавшее «историческое явление».
Человек, вообще говоря, становится «тем», что он
ежедневно
делает или чего не делает. Пусть он только попробует прекратить необходимое ему
движение или целительный сон — и из этих упущенных им
«невесомостей» каждого дня у него скоро возникнет болезнь.
Напротив, если он ежедневно хотя бы понемногу будет грести веслами или если
он научится засыпать хотя бы на пять минут среди повседневной суеты, — то
он скоро приобретет себе при помощи этих ежедневных оздоровляющих упражнений
некий запас здоровья.
Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», могущая
постепенно восстановить утраченное равновесие организма, обещает каждому из
нас исцеление и здоровье. Настоящее врачевание не просто старается
устранить
лекарствами известные неприятные и болезненные симптомы, нет,
оно
побуждает организм, чтобы он сам преодолел эти симптомы и больше
не воспроизводил их. И точно так же дело не только в том, чтобы
отвести смертельную опасность, но в том, чтобы выработать
индивидуально
верный образ жизни и научить пациента
наслаждаться им. Эти слова
точно передают главную мысль: настоящее «лекарство» —
не горько, а сладостно, оно изобретается врачом для данного пациента,
в особицу, и притом изобретается совместно с пациентом, оно должно
вызвать у пациента жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять
на высоту его творческие силы. Здоровье есть равновесие и наслаждение.
Лечение есть путь, ведущий от страдания к радости.
Есть поговорка: «подбирай не Сеньку по шапке, а шапку по Сеньке».
Это и для всякой одежды и обуви. Это применимо и к лекарствам и к образу жизни.
Нет всеисцеляющих средств; «панацея» есть вредная иллюзия. Нет такого
«впрыскивания» и нет такого образа жизни, которые были бы
всем на пользу. Если врач изобретает новое средство или новый образ жизни
(напр., режим Кнейпа
2, или вегетарианство)
и начинает применять его у всех пациентов — настаивая, экспериментируя,
внушая и триумфируя — то он поступает нелепо и вредно. Я называю
такое лечение «прокрустовым врачеванием», памятуя о легендарном
разбойнике, укладывавшем всех людей на одну и ту же кровать: длинному человеку
он обрубал «излишки», короткого он вытягивал до
«нужной» мерки. Такие врачи всегда встречались, они попадаются
и теперь. Такой врач «любит» тех пациентов, которым его новое
средство «помогает» — ибо они угождают его тщеславию и
доходолюбию, а к тем, которым его мнимая «панацея» не помогает,
он относится холодно, грубо или даже враждебно.
Утверждая все это, я совсем не отрекаюсь от всех наших лабораторий,
анализов, просвечиваний, рентгеновских снимков, от наших измерений и подсчетов.
Но все эти арифметические и механические подсобные средства нашей практики получают
свое настоящее значение от верного применения: все это только начальные буквы
нашего врачебного текста, это естественно-научная азбука наших диагнозов, но
отнюдь еще не самый диагноз. Диагноз осуществляется в живом
художественно-любовном созерцании страдающего брата, и врачебная практика
есть индивидуально-примененное исследование, отыскивающее тот путь, который
восстановил бы в нем утраченное им органическое равновесие.
Но это еще не все. Горе тому из нас, кто упустит в лечении
духовную
проблематику своего пациента и не сумеет считаться с нею! Врач и пациент
суть духовные существа, которые должны совместно направить судьбу страдающего
духовного человека. Только при таком понимании они найдут верную дорогу. Человек
не гриб и не лягушка: энергия его телесного организма, его
«соматического Я», дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его
вещественные запасы
в духовной работе. И вот есть люди, которые сжигают
слишком много своей энергии и своих веществ в духовной работе —
от этого страдают, и есть другие люди, которые пытаются истратить
весь запас
своих телесных сил и веществ —
через тело, духом же пренебрегают
— и от этого терпят крушение. Есть болезни воздержания (аскеза)
и болезни разнуздания (перетраты). Есть болезни пренебреженного и потому
истощаемого тела; и есть болезни пренебреженного и потому немощного духа.
Врач должен все это установить, взвесить и найти индивидуально-верное
решение, и притом так, чтобы пациент этого не заметил. Нельзя лечить тело,
не считаясь с душою и духом, но дух очень часто и знать не желает о том,
что его «лечат»... Поэтому каждый из нас, врачей, должен
иметь доступ ко многим тонкостям душевных болезней, всегда иметь при
себе «очки» нервного врача и применять их осторожно и
молчаливо...
Только на этом пути мы можем осуществить синтетическое, творчески живое
диагностическое созерцание и врачевание. Только так мы постигнем страдание нашего
пациента в его органической целокупности и сумеем верно облегчить его
таинственную болезнь.
Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные замечания как своего
рода «исповедание» старого русского врача. Это не мои выдумки. Я
только всю жизнь применял эти правила и теперь выговорил их. Они укоренены в
традициях русской духовной и медицинской культуры и должны быть переданы по
возможности новым подрастающим поколениям русских врачей. А так как я наверное
завершу мой земной путь раньше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните
мое письмо и опубликуйте его после моей смерти там и тогда, когда Вы признаете
это целесообразным. Но не называйте при этом моего имени, потому что, правда же,
дело не в имени, а в культурной традиции русского врача. Да и времена теперь
такие, что всякое неосторожно названное имя может погубить кого-нибудь».
Письмо заканчивалось дружеским приветом и полною подписью. А мне оставалось
только исполнить просьбу моего старого друга, что я ныне и делаю.
1 Имаго (лат.) — образ, подобие.
2 Кнейп Себастьян (1821—?) — немецкий
католический священник. Будучи больным, прибег к водолечению.
С течением времени выработал собственную систему оздоровления с
помощью воды и водных процедур, которую широко применял при лечении
и профилактике многих заболеваний обращавшихся к нему людей.
Источник:
Русский
колокол


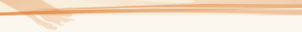
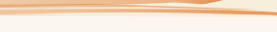



 ®, 2006
®, 2006